
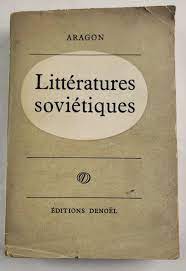
1955: Littératures soviétiques, Denoël
1956: Introduction aux littératures soviétiques. Contes et nouvelles, Gallimard Volume 1 de la coll. «Littératures soviétiques»
Проблемы серии «Советские литературы». Позиция Арагона по отношению к «советским меньшинствам»: акцент на многообразии; путешествие во времени и пространстве. Адаптация метода социалистического реализма для Франции. Его доклад на Первом съезде советских писателей в 1934 г.
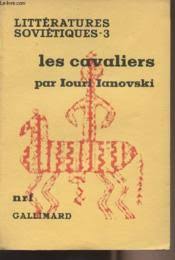
Les Cavaliers de Ianovski, adapté et préfacé par Aragon Gallimard, 1957
Юрий Яновский. Всадники
Перевод и предисловие Луи Арагона.
«Французская библиотека» (1943 г.)
Начало деятельности Арагона как издателя связано с нелегальным издательством «Французская библиотека», основанного Арагоном в 1943 г. Вторым этапом этой деятельности стала его работа в литературном издательстве Éditeurs français reunis (EFR), вплоть до его исчезновения в 1981 г. К этому времени Арагон имел уже большой опыт: в течение 1930-х гг. был журналистом и публикатором, находясь в центре международной интеллектуальной и литературной жизни. Издательская и журналистская деятельность для него были неотделимы от политики. С конца 1950-х гг. он стал издавать французских и иностранных авторов как в EFR, так и в других местах, в частности, в издательстве «Галлимар», где он стал директором серии.
В 1932 и 1933 гг. он был ответственным редактором в Москве в журнале «Литература мировой революции» Международной организации революционных писателей (UIER/МОРП).
Éditions Sociales Internationales
Организация антифашистской борьбы подтолкнула ФКП к тому, чтобы возложить на Арагона более важные функции. В июле 1933 г. он стал секретарем редакции нового журнала «Коммюн» и оставался им до декабря 1936 г., а затем работал в качестве члена редколлегии. «Коммюн» издается издательством ФКП Éditions Sociales Internationales (ESI) при идеологическая поддержке Ассоциации революционных писателей и художников (AEAR).
На посту директора Éditeurs français reunis (EFR)
В 1950 г. Арагон возглавил издательство Éditeurs français reunis (EFR). В послевоенное время в период «холодной войны» оно выпускало в среднем 35 наименований в год, но с 1953 г. средний тираж упал с 17 000 экземпляров в 1949 г. до 4 200 в 1956 г. Издательства продвигали авторов по партийному «списку», до 1956 г. французскими романистами действительно были те, кого выдвигала ФКП: Андре Вюрмсер (9 названий), Пьер Дэкс, Андре Стиль (7 названий), Пьер Куртад, Пьер Гамарра, Жан Лаффит (4) Тийяр (3), Жан Фревиль, Пьер Абрахам (1) и др. Но Арагон публикует только свой роман «Коммунисты», и пять романов Эльзы Триоле. Много места Арагон отводит полным собраниям сочинений. EFR выпускает Полное собрание сочинений Максима Горького 1949 г., подготовленное Ж. Перюсом, Жюля Валлеса 1950 г., Антона Чехова 1952 г., также подготовленное Ж. Перюсом. Благодаря серии «В стране Сталина» («Au Pays de Staline»), в которой публиковались советские романы, EFR знакомит читателя как с советской литературой, так и с классической русской литературой и французскими романами.
В качестве директора EFR Арагон ищет новинки, неизданные рукописи, особенно молодых писателей, какими были Пьер Куртад в 1946 г., Андре Стиль в 1949 г. и Пьер Дэкс в 1950 г. Выбор Арагона не всегда продиктован любовью к литературе, но также и партийной дисциплиной.
«В стране Сталина» (1949-1951 гг.)
В серии «В стране Сталина» планировалось издать 24 наименования, прежде всего, лауреатов Сталинской премии. Советские романы имеют документальный и пропагандистский интерес в большей степени, чем литературную ценность. Арагону приходилось мириться с политическими приоритетами, сопровождавшимися коммерческими провалами. Серия закончилась, как и планировалось, в 1951 г., но было опубликовано всего 12 книг с разочаровывающим средним тиражом в 3500 экз. В ноябре 1952 г. Политбюро, призывавшее к разработке «плана радикального улучшения распространения советского романа», поручило Арагону доклад на эту тему для представления в ЦК. Однако попытки Арагона привлечь внимание к факту отсутствия талантливых авторов наталкивается на сопротивление партийного руководства на фоне холодной войны.
«Советские литературы» (1956)
Впрочем, Морис Торез демонстрирует интерес к литературе, Арагону удается опубликовать статью о советской литературе в Cahiers du communisme в ноябре 1955 г., в момент публикации его «Введения в советские литературы...» в издательстве Деноэль. Уйдя с поста директора EFR в 1955 г., Арагон, тем не менее, продолжает играть важную роль в редакционном аппарате ФКП, в газете «Lettres françaises», в «Europe» и даже за пределами коммунистической сферы. И главное – он сохранил за собой руководство «всеми советскими переводами» в EFR. Отметив, что они не могут эффективно распространять эти произведения, он получил от руководства партии разрешение предлагать эти рукописи другим издательствам. Поэтому 12 октября 1955 г. секретариат ФКП уполномочил «товарища Арагона принять предложение Галлимара об издании под его руководством серии советских романов». Это было рождение серии «Советские литературы» в 1956 г., на этот раз вдали от партии: в Галлимаре, а не в EFR. Однако руководить серией «Советские литературы» в Галлимаре было непростой задачей. В это время начали существенно меняться механизмы передачи советских произведений. Попытки десталинизации в советском литературном мире нарушили привычные схемы и общественные ожидания. Французские издатели теперь хотят эксплуатировать «восточную нишу» всеми возможными способами. За пределами официальных схем Галлимару удалось опубликовать «Доктора Живаго» Бориса Пастернака в июне 1958 г. Повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», опубликованное Жюльяром в 1963 г., также свидетельствует об утрате контроля за официальной цепочкой распространения советских произведений: в ноябре 1962 г. Политбюро было в ярости, узнав, что СССР санкционировал публикацию романа Солженицына, не посоветовавшись и даже не предупредив!
Более того, работа, проделанная Арагоном для «Советских литератур», не идет в ногу с общественными ожиданиями и эволюцией советской литературы. Еще в 1954-1955 гг. Арагон публиковал «ортодоксальных» или более или менее диссидентских авторов (Юрий Тынянов), что он начал делать в EFR. Как и партия, он первоначально сопротивлялся десталинизации литературы, публикуя консервативные тексты в 1957 г. Затем он склоняется к новому поколению, враждебному или далекому от официальной литературы: Вере Пановой, Даниилу Гранину (до защиты Солженицына) или Эммануилу Казакевичу. В 1962 г. был сделан шаг назад с выходом в свет произведений некоторых консерваторов, таких как Леонид Соболев. На коммерческом уровне провал был очевиден: продажи становились все ниже и составляли 2000 или 1000 экз. Серия «Советские литературы» закончилась в 1980 г. С 1963 г. издательство EFR по существу ограничивалось произведениями Чехова и Горького, но оно опубликовало киргизского писателя Чингиза Айтматова, открытого Арагоном.
В целом результаты деятельности Арагона-издателя в EFR не были удовлетворительными, так как руководство ФКП не было заинтересовано в качественных литературных изданиях: литература оставалась в глазах партии элементарным оружием пропаганды. История издания «советских литератур» показывает, что Арагону не удалось контролировать процесс ввоза произведений из советских стран, в условиях развития других направлений и влечения публики к произведениям, исходившим от писателей, критически относящихся к советскому режиму. Его ограничительная политическая приверженность в конечном итоге помешала Арагону использовать свою обширную сеть литературного и художественного общения на рынке, где знание общественных ожиданий, кроме того, так же важно, как и литературные убеждения.
Источники: RECHERCHES CROISÉES ARAGON - ELSA TRIOLET . N°10. Presses universitaires de Strasbourg /Corinne Grenouillet, Maryse Vasseviere, Alain Trouvé. Marie-Cécile Bouju. Aragon éditeur, p. 103-114.
Библиография
Charle, Christophe, « Le temps des hommes doubles », Revue d’histoire moderne et contemporaine, janvier-mars 1992, vol. 39, no 1, p. 73-85.
Fouché, Pascal Au Sans Pareil, Institut Mémoires de l’édition contemporaine, « Éditions contemporaines », 1989, p. 24.
«Annexe 6, [contrat], 8 février 1935 », 2 f., RGASPI (Archives d’histoire sociale et politique de l’État de Russie, Moscou), 78136.
Marie-Cécile Bouju, Lire en communiste : les maisons d’édition du Parti communiste français, 1920-1968, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 110-111 ; Du surréalisme au Front populaire : Inquisitions, Éditions du CNRS, 178 p.
Marie-Cécile Bouju, Histoire de la revue Europe, 1923-1939, Maîtrise d’histoire, JeanYves Mollier (dir.), Université Paris 10, Nanterre, 1993, p. 111.
Nathalie Raoux, « Aragon directeur des éditions du 10 mai ? », Aragon politique, RCAET, no 11, 2007, p. 85-96.
Conférence extraordinaire tenue à Paris le 25 juillet 1938, Denoël, 1938, 110 p.
François Chapon, C’était Jacques Doucet, Fayard, 2006, p. 383-406 ; Maryse Vassevière, « Aragon, Doucet et l’histoire littéraire », La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet : archive de la modernité, Presses Sorbonne Nouvelle – Les Éditions des Cendres, 2007, p. 49-65.
Dominique Vaugeois, « Henri Matisse, roman d’Aragon », Travaux de littérature, Droz, t. LXV, 2002, p. 393-414.
Corinne Grenouillet, Lecteurs et lectures des Communistes d’Aragon, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2000, p. 41.
Reynald Lahanque, Le Réalisme socialiste en France (1934-1954), thèse de littérature française, Guy Borelli (dir.), Université de Nancy 2,2002, 1060 p.
Collection créée par les Éditions sociales en 1950.
André Stil, Une Vie à écrire. Entretiens avec Jean-Claude Lebrun, Grasset, 1993, p. 66-67.
Paul Aron, « Être ou ne pas être réaliste socialiste. L’exemple d’Elseneur de Pierre Courtade », Sociétés et représentations, no 15, décembre 2002, p. 217-228 ; John E. Flower, Pierre Courtade : the making of a party scribe, Oxford, Berg, 1995, 247 p.
André Stil, L’Optimisme librement consenti. Conversation avec Pierre-Luc Sérillon. Stock, 1979, p. 91; André Stil, Une vie à écrire, op. cit., p. 18.
Pierre Daix, J’ai cru au matin, Robert Laffont, 1976, p. 237.
Gisèle Sapiro, La Guerre des écrivains, 1940-1953, Fayard, 1999, p. 669.
Janine Bouissounouse, La Nuit d’Autun, Calmann-Lévy, 1977, p. 194. Dix jours pour un est publié par les EFR en 1950.
Pierre Daix, Aragon. Une vie à changer, Flammarion, 1994, p. 442.
Marie-Cécile Bouju, Lire en communiste, op. cit., p. 221-222.
Ioana Popa, « Le réalisme socialiste : un produit d’exportation politico-littéraire », Sociétés et représentations, no 15, décembre 2002, p. 272-273.
Décisions. Bureau politique, 14 novembre 1952, Archives PCF. Archives Départementales de Seine-Saint-Denis.
Secrétariat. Décisions, 28 janvier 1948, Archives PCF.
François Monod, « Note complémentaire sur les EFR », 11 septembre 1956, 1 f. ms, Fonds Elsa Triolet-Aragon, CNRS.
Pierre Daix, Tout mon temps, révisions de ma mémoire, Fayard, 2001, p. 407.
André Stil, L’Optimisme librement consenti, op. cit., p. 172.
Fonds Elsa Triolet-Aragon.
Corinne Grenouillet, « Les cannibales de la place Graillon : Aragon à l’Académie Goncourt, novembre 1967 – décembre 1968 », Les Goncourt dans leur siècle : un siècle de « Goncourt », J.-L.Cabanès, P.-J. Dufief, R. Kopp, J.-Y. Mollier (éds), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2005, p. 435-448
Mireille Hilsum, «Mise en image et mise en mots dans Je n’ai jamais appris à écrire ou Les Incipit d’Aragon», Textimage, no 3, en ligne sur : http://www.revue-textimage.com/06_image_recit/hilsum.pdf ; consulté le 2 janvier 2014.
Décisions. Secrétariat, 12 octobre 1955, Arch. PCF.
Thomas Gomart, Double détente. Les relations franco-soviétiques de 1958 à 1964, Publications de la Sorbonne, 2003, p. 96-97 ;
Ioana Popa, La Politique extérieure de la littérature. Une sociologie de la traduction des littératures d’Europe de l’Est (1947-1989), Thèse de doctorat de sociologie, Frédérique Matonti (dir.), EHESS, 2004, p. 481-486.
Lili Brik et Elsa Triolet, Correspondance (1921-1970), 23 novembre 1962, op. cit., p. 1016
Bureau politique. Décisions, 29 novembre 1962 et 3 janvier 1963, Arch. PCF.
Gisèle Sapiro, «À l’international», dans Gallimard. Un siècle d’édition (1911-2011), Gallimard/BnF, 2011, p. 124-147.
Témoignage de Lucien Sève, 2010.
Ист.: RECHERCHES CROISÉES ARAGON - ELSA TRIOLET . N°10. Presses universitaires de Strasbourg /Corinne Grenouillet, Maryse Vasseviere, Alain Trouvé. Marie-Cécile Bouju. Aragon éditeur, p. 103-114.
Очерк Арагона «Свет Горького»
из книги «Советские литературы» (Littératures soviétiques, 1955)
В очерке «Свет Горького» из книги «Советские литературы» (Littératures soviétiques, 1955) Арагон воссоздает историю своего увлечении творчеством Горького в отрочестве: «В детстве я очень любил читать; это была настоящая страсть. Я читал все, что попадало мне в руки; мои домашние сначала поощряли эту склонность, потом она стала их тревожить… Моя мать любила русские романы; застав меня однажды погруженным в чтение Тургенева, она стала рассказывать мне о Толстом и дала читать «Севастопольские рассказы» и «Крейцерову сонату». Тогда мне не было еще десяти лет. Я прочел подряд «Тараса Бульбу», «Преступление и наказание», «Шинель» «Записки из мертвого дома»... Достоевский, Гоголь—все шло как нельзя лучше, но когда я был застигнут за чтением только что взятой у дяди книги — в дешевом издании, с обложкой, на которой был изображен казак, избивающий нагайкой женщину,— мать выхватила книжку у меня из рук, говоря: «О нет, только не это! Горький — это не для тебя!»[1]. Имя Горького рано вошло в круг чтения Арагона-подростка: «Во Франции не было ни одного дома, в котором не нашлась бы хоть одна книга этого писателя, чья слава была в то время столь велика. Она выросла еще больше после смерти Льва Толстого; с тех пор стали говорить: «Теперь Горький — их самый лучший романист...».
Арагона-подростка поверг в изумление тот факт, что двумя годами раньше мать помешала ему читать Горького: «Было ли в этих книгах что-либо другое, кроме самых больших, самых возвышенных чувств, кроме чистоты сердца? Почему мне запрещали их читать? Значит, мои родные приняли сторону тех, кто творил зло? Все это показалось мне настолько странным, чреватым такими тяжелыми последствиями, что я никому не рассказал о моем новом читательском увлечении; даже от своих школьных товарищей скрывал я все то, что знал о Горьком» (СГ, 370). Горький стал настоящим увлечением Арагона и дал его мыслям новое направление: «Когда я раскрыл страницы, где Горький говорит о своем детстве, мне стало стыдно за свое детство, за весь наш образ жизни — все это показалось мне вдруг верхом роскоши и достатка; совсем другими глазами смотрел я на бедных детей, которых встречал на улице» (СГ, 370). Горький дал новое направление и нерастраченному религиозному пылу Арагона, «озарил для многих молодых умов Франции путь с заоблачных высот к людям». Арагон вспоминает, что в лицее детям не рассказывали о русской литературе, сам он воспринимал Горького в ряду Жан-Жака Руссо и Дидро, деятелей французского Просвещения.
При этом Арагон вовсе не стремится к воссозданию духовного облика или жизненного пути писателя. Он набрасывает его биографию несколькими штрихами: «Не буду останавливаться на этих прошедших сорока годах. Я не остановлюсь и на том времени, когда Горький жил в Сорренто и когда многие на этом основании считали, что он уже не вернется на родину — туда, где герои романа «Мать» взяли власть в свои руки. В те годы имя Горького произносили с многозначительной миной, с покачиванием головы; его имя пытались противопоставить всему тому, что он на самом деле защищал. Я не остановлюсь также и на тех днях, когда я видел его в большом подмосковном доме, в необычном окружении, которое, казалось, сошло со страниц его книг, видел Горького с его жаждой знания, с его сердечным отношением ко всем, кто приходил к нему, и с его готовностью делиться своим опытом с молодежью заводов и сел... [2] Не буду говорить и о тех часах, когда весь народ спрашивал, дышит ли еще Горький...» (СГ, 371).
Арагон включает Горького в особый круг писателей, определявших его жизненный путь своим примером: «Но вот уже и я — старый человек и могу говорить, что знал Аполлинера, и Барбюса, и Ромена Роллана... и рассказывать о них: об их манере держать трубку или носить плащ... Но когда я снова беру в руки книги Максима Горького, когда за словами текста я слышу его голос, когда особая манера, с какой изображал он персонажей, напоминает мне его изучающий взгляд, остановившийся на мне, и его улыбку,— и тогда я вновь ощущаю трепет, с каким я читал Горького в детстве и вспоминаю вопросы, волновавшие меня в юности и тревоги моей зрелости, и весь горестный опыт долгих лет, и надежды, и те причины, которые заставили меня стать тем, чем я стал... Горький, как никто другой заставил меня поверить в правильность выбранного пути» (СГ, 372).
Арагон вновь возвращается к мысли о том, что Горький – Дидро ХХ века, энциклопедист, обосновавший метод соцреализма: «Несомненно, за эти годы у меня вошло в обыкновение обращаться за советом по вопросам моей писательской профессии к этому теоретику литературы, который первый придал современному реализму новый характер, который привел реализм в стройную систему. Благодаря своему энциклопедическому уму, благодаря взору, освещающему все вокруг, Горький стал для меня своего рода Дидро двадцатого века» (СГ, 372).
Эмиграцию Горького в Италию Арагон сравнивает с пребыванием в Италии Стендаля: «Анри Бейль, почти в том же возрасте, что и Горький в бытность свою на Капри, тоже приехал в Италию в знак протеста против победы тьмы. …Различие может показаться здесь довольно большим. Но не является ли это опять-таки различием между двумя эпохами, между двумя историческими перспективами? Примеры, выбранные Стендалем, подготавливали возвращение власти якобинской буржуазии. Примеры, выбранные Горьким, звали русский пролетариат к уже близкому Октябрю. Размышлять об этих различиях — это значит видеть также и сходство, сто лет спустя видеть сходство между горьковскими сказками и стендалевскими хрониками. Горький, насколько я помню, не любил Стендаля» (СГ, 376).
В сущности, все эти параллели, более или менее обоснованные, нужны Арагону лишь для того, что вписать Горького в европейский контекст, приблизить его к европейскому читателю, так как при всей славе Горького его герои и сюжеты его книг представляются Арагону как западному читателю довольно экзотическими, той самой «азиатчиной», против которой ратовал Горький. Именно поэтому для анализа творчества Горького Арагон выбирает его «Сказки об Италии». Арагон даже сделал разыскание: в 1955 году нашел предисловие Горького к французскому изданию 1919 года, в котором тот проводит свою излюбленную мысль о вреде правды, подтверждающую его недоверие к человеку: «Если всегда говорить людям только горькую правду об их недостатках,— этим покажешь их такими мрачными личностями, что они станут бояться друг друга, как звери, и совершенно потеряют чувства доверия, уважения и интереса к ближнему — чувства и без того, не слишком в них развитые. Правда необходима. Огонь ее, закаляя крепкую душу, делает ее еще более сильной, но ведь крепких душ немного среди нас, а в слабой душе от ожогов правды появляются только болезненные пузыри злобы, ненависти, заводится чесотка раздраженного самолюбия. Кроме огромных недостатков, в людях живут маленькие достоинства, и вот именно эти достоинства, выработанные человеком в себе самом очень медленно, с великими страданиями,— эти достоинства необходимо — иногда — прикрасить, преувеличить, чтобы тем поднять их значение, расцветить красоту ростков добра, которые — будем верить! — со временем разрастутся пышно и ярко» (СГ, 377).
Горький оправдывал такой метод изображения действительности необходимостью воспитывать на лучших примерах, но в результате, как отмечает Арагон, именно такие его высказывания впоследствии в советской литературе послужили основанием для того, чтобы изображать людей не такими, каковы они, но такими, какими они должны быть, — а за теорией потянулись и «лакировка» персонажей романов и пьес, и теория «бесконфликтности», и т. д. ... «Да, он иногда «прикрашивал»,- пишет Арагон, - но это не ложь, это освещение. Вот чего многие не понимают, когда говорят о современном реализме, который называется социалистическим реализмом и который берет источник — один из важнейших своих источников — в Горьком» (СГ, 378). Но Горький не только «прикрашивал», он – автор «жестоких» рассказов. Арагон развивает такую мысль: если бы никому не известный Горький сейчас принес один из своих «ужасных и кровавых» рассказов (например, историю об Эмилии Бракко) в редакцию советского журнала, то редакторы и критики насторожились бы: «Зачем писать о таких вещах? Нужно ли нам это? Где положительный герой?» И уж никогда бы не назвали их «революционной прокламацией», как когда-то сказал Ленин о «Сказках об Италии». Арагона привлекает возможность их использования в политической газете (Ленин включил сказку Горького в свою «Правду» накануне Октября, пишет Арагон). Он и сам в 20-30-е годы был свидетелем литературных дискуссий и борьбы за жанр «короткого рассказа» как более демократичный и отвечающий нуждам «пролетарской литературы» в отличие от «буржуазного» романа. При этом Арагон возмущен «бесстыдным» использованием в официальных кругах имени Горького как «жупела, пугала, символизирующего оголтелую политическую агитацию» (СГ, 389).
Второе произведение, привлекшее внимание Арагона, - «эстетический трактат» «Читатель» (именно так Арагон определяет жанр рассказа Горького): «текст, который своею фантастичностью напоминает Эдгара По, Эдгара По интеллектуальных приключений». Главная мысль рассказа, подробно разбираемого Арагоном, - вызвать в человеке «жгучее желание создать иные формы бытия». Эта горьковская установка сделала его искусство «образцом, пробным камнем того нового искусства, которое называется социалистическим реализмом и которое все советские писатели объявляют …научной формой литературы, которая по отношению к старому искусству — все равно, что химия по отношению к алхимии, научный социализм по отношению к социализму утопическому» (СГ, 396). Парадоксальным образом рассказ, написанный в русле исканий символистского искусства в период «борьбы за идеализм» Горького оказывается прообразом соцреалистического заказа, программным произведением соцреализма, который Арагон справедливо возводит к линии произведений, отвергающих правду ради возвышенного обмана («Сказка о Чиже, который лгал и о Дятле-любителе истины» и др.): «Всякому, кто приближается, как к новому и огромному материку, к советской литературе, …к этому новому духовному континенту, всегда необходимо начать с Горького, если он хочет понять…, где берет начало эта действительность, перестраиваемая заново на обломках мрачных и безнадежных фотографических снимков». В своей статье Арагон пытается выстроить аргументацию в защиту метода «социалистического реализма», возводя его, как было принято по всем канонам советского официоза, к творчеству Горького. Однако, утверждая, что творчество Максима Горького стоит на пороге нового времени как «великое и торжественное введение в будущее, мост между будущим и прошлым», Арагон впадает в нелепые крайности. Например, утверждая, что «с ним нельзя сравнивать ни одного, даже самого крупного, писателя прошлого. Как бы велики они ни были, но отныне в глазах грядущих поколений существуют и будут существовать они — и Горький».
Таким образом, Максим Горький был для юноши Арагона одним из кумиров юности - наряду с Роменом Ролланом и Андре Жидом.
Арагон вспоминает, что на фронте, куда он был мобилизован в 1918 году в качестве фельдшера (после трех лет учебы на медицинском факультете), ему не давала покоя мысль Ницше о том, что «в душе у нас кроются великие силы, но общей для всех цели нет» (ГВ, 273). «Все цели уничтожены», — так говорил Заратустра. Именно тогда Арагон решил стать писателем: «Бывший лекпом, казалось, нашел, как ответить Ницше: он верит, что существует «einen Zweck fur alle», цель для всех — всех чувств, всех людей. Он уже не лечит марокканцев от туберкулеза, он надеется на лекарство совсем иного рода, для всего человечества» (ГВ, 277).
Поиски своего пути в искусстве вновь привели Арагона к Горькому — теперь уже в качестве единомышленника, писателя-реалиста, стремящегося «помогать человеку понимать себя самого, поднять его веру в себя и развить в нем стремление к истине, бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них» (СГ, 393). Ему понадобилось 10 лет художественных экспериментов в кругу «золотой молодежи», чтобы прийти к той форме освоения действительности, которая дала рождение романам цикла «Реальный мир» и «Страстная неделя». Когда тридцать лет спустя пришла пора осмыслить потери и завоевания на избранном пути, Арагон вновь обращается к образу Горького, оставшегося для него знаковой фигурой реализма XX века — в романе о границах реализма «Гибель всерьез». «Свет Горького» не угас и проникает сквозь толщу лет, освещая происходящее в романе.
Очерк «Молодые люди» («Советские литературы», 1955)
«И вот 18 июня...
18 июня мы приехали в Москву, прибыв из Лондона в Ленинград пароходом. Нас встретили дурные вести: Максим Горький был в агонии. Нас сейчас же направили к нему: несколькими днями раньше он, узнав о нашем предстоящем приезде, выразил желание нас повидать. Что за мучительно душный день!.. Экипаж подвез нас по шоссе к воротам парка, окружавшего тот самый дом, где два года назад мы были на многолюдном банкете, последовавшем за Первым съездом писателей, и где в другой раз мы с Эльзой обедали как гости этого великого человека в кругу его семьи... Сейчас к нему уже никого не впускали. Оставив экипаж у дерева, мы вступили в безуспешные переговоры с охраной. Максим Горький был при смерти: конец мог наступить с минуты на минуту. Прогудел автомобиль и промчался в ворота: приехал врач...
На обратном пути под нещадным солнцем, меж полями характерного подмосковного пейзажа с его деревянными домиками, мы встретили на шоссе автомобиль; в нем сидел Андре Жид, прибывший в Москву за несколько часов перед тем. Стали делать знаки, автомобиль остановился. «Бесполезно... Горького видеть уже нельзя». У меня пронеслась мысль: «Они ведь в одних летах... на него это может произвести особое впечатлением Лицо Жида приняло приличествующее случаю выражение, но в основном он, видимо, был раздосадован напрасной потерей времени. Потом вдруг с необычайной живостью стал просить переводчика поехать с ним в пионерский лагерь, замеченный им по дороге, за несколько километров отсюда. Мы видели, как они туда направились.
Горький умер в тот же день. Весть эта нагнала нас в Москве, едва мы успели вернуться в гостиницу. Она облетела всю страну, она схватила ее за горло — всю огромную страну, из края в край. И на другое утро докатилась до Сочи, до человека, распростертого на балконе в полной неподвижности, лишенного возможности даже отправлять естественные потребности без помощи посторонних, человека, вся видимая жизнь, вся способность движения которого сосредоточивались в одной из рук, в легком дрожании ее пальцев — и это было все! И притом слепого... «На сердце у меня глубокая грусть. Гибель Алексея Максимовича тяжело меня поразила. Я потерял сон и покой...» Целые дни он проводил на балконе. «Целые дни провожу на открытом балконе. Свежий ветер с моря, теплый и ласковый. Жадно дышу и не надышусь. Хорошо здесь, на новом месте. Даже соловей по утрам заливается: устраивается на сосне близ моего окна и заставляет меня слушать себя. Только поет очень уж рано — в пять часов, когда мне спать надо».
Книгу свою Островский хотел закончить к 1 августа. С начала января он работал над ее окончательной редакцией. 31 июля он пишет жене: «Я работаю, напрягая все свои духовные и физические силы. Написано 54 страницы 6-й главы. Здоровье мое предательски качается. Каждую минуту можно ожидать срыва. И я спешу, ловя минуты. Оказывается, у меня был прорыв мочевого пузыря. На этот раз смерть обошла кругом...» И ей же, 2 августа: «Итак, да здравствует упорство! Побеждают только самые сильные духом. К черту людей, не умеющих жить полезно, радостно и красиво. К черту сопливых нытиков! Еще раз — да здравствует творчество!..» Между 2 и 6 августа он написал 83 печатных страницы. У него работают две машинистки, два секретаря. Он продолжает не спать. Уже с 9 августа его личный секретарь, А. Лазарева, находится при нем постоянно — для приемки рукописи. Она проверяет страницу за страницей, по мере того как Николай пишет. И он и весь его штаб работают по две смены. Дом полон стука пишущих машинок. «Я, по обыкновению, жму всех, и они, наверное, ждут не дождутся, когда этот сумасшедший успокоится». Пишутся уже последние страницы, но он откладывает письмо к жене до 18-го, когда рукопись уже проверена полностью и отправлена днем раньше в Москву...
[1] Арагон Л. Свет Горького // Арагон Л. Собр. соч. М., 1965. Т. 10. С. 369. Далее цитируется это издание (сокр. СГ) с указанием страницы.
[2]Ср. этот же абзац в тексте о Горьком десять лет спустя (в романе «Гибель всерьез»): «Помню, как уже много позже мы с Омелой впервые были у Горького: он тогда только что вернулся в Москву, и ему дали огромный загородный дом с парком, где он и жил с целой свитой домочадцев. Это было так странно, так непонятно... так не вязалось с моим представлением о новой России...» (ГВ, 34).
